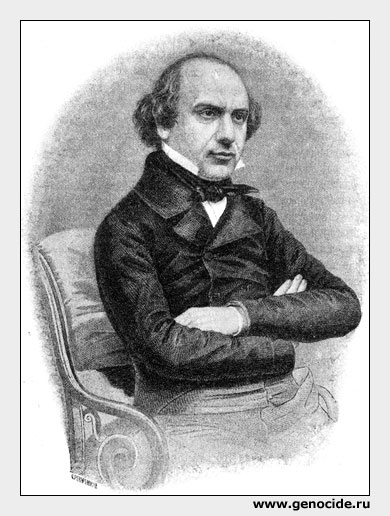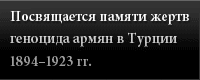 |
| Краткий обзор |
| История геноцида |
| Хронология |
| Весь раздел... |
| Энциклопедия |
| Литература, документы |
| Фотоматериалы |
| Карты |
| Библиография |
| Весь раздел... |
| Форумы |
| Проект “Я знаю” |
| Ссылки |
| Конвертор транслита |
| О сайте |
| Геноцид.ру > Библиотека > Литература, документы | ||
| Внимание! Предлагаемый ниже текст написан в дореволюционной орфографии. Если текст не отображается корректно, см. Просмотр русских текстов в старой орфографии. БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМЪ ВЪ ТУРЦИИ АРМЯНАМЪ
ОТДѢЛЪ I.[стр. 13] Университетскій курсъ Грановскаго.Зa послѣдніе годы наша печать много занималась Грановскимъ. Переизданы были его сочиненія и его біографія, написанная A. B. Станкевичемъ; вновь издана его переписка; охарактеризованы нѣсколькими профессорами исто-ріи его общія историческія воззрѣнія; наконецъ, составлена новая біографія, авторъ которой старался освободиться отъ панегирическаго тона и ввести оцѣнку дѣятельности Грановскаго въ болѣе широкія рамки — современныхъ ему общественныхъ движеній. Въ итогѣ всѣхъ этихъ новыхъ и обновленныхъ работъ личность Гра-новскаго, безъ сомнѣнія, представляется намъ въ болѣе отчетливыхъ чертахъ, чѣмъ прежде. Но въ этомъ отчетливомъ образѣ, отдѣльныя детали котораго пере-рисовываются и отдѣлываются съ такой тщательностью и любовью нашими изслѣ-дователями, до сихъ поръ остается, къ удивленію, незаполненнымъ огромное бѣлое пятно. Человѣкъ, считавшій профессуру главнымъ своимъ призваніемъ, на ней сосредоточившій весь жаръ своей души, въ ней принужденный находить глав-ное, если не единственное средство быть полезнымъ русскому обществу,—этотъ человѣкъ донынѣ менѣе всего оказывается извѣстенъ намъ, какъ университет-скій профессоръ. Мы знаемъ Грановскаго хорошо и непосредственно, какъ писателя, какъ члена извѣстнаго общественнаго кружка, какъ товарища, даже какъ семьянина; но о его профессорской дѣятельности мы до сихъ поръ принуждены судить по отзывамъ его друзей и слушателей, по его собственнымъ отзывамъ,— по чему угодно, только не по прямымъ продуктамъ этой самой дѣятельности. Конечно, эти продукты въ полной ихъ жизненности теперь уже востановлены быть не могутъ. Мы дожны примириться съ тѣмъ, что «тайна живой, увлекательной рѣчи» Грановскаго навсегда отошла въ прошлое, вмѣстѣ съ поколѣніемъ людей, слѣдившихъ за выраженіемъ его лица, то одушевленнымъ, то грустнымъ, слышавшихъ тихій, проникавшій въ дущу голосъ профессора. Вмѣстѣ съ этой тайной исчезло безвозвратно и то очарованіе, которое испытали очевидцы университетскихъ чтеній Грановскаго,—и которое они безсильны передать намъ. Понятно, при этихъ условіяхъ, ихъ колебаніе—ввѣрить чуточку новому поколѣнію мертвый остовъ рѣчи, трепетавшей когда-то жизнью и все еще живой въ ихъ воспоми- [стр. 14] наніи. Но для насъ уже не существуетъ болѣе этихъ мотивовъ. Намъ легче констатировать тотъ несомнѣнный фактъ, что и для Грановскаго, наконецъ, наступила исторія. Мы можемъ сдѣлать это тѣмъ смѣлѣе, чѣмъ болѣе мы увѣрены, что никакая исторія не можетъ лишить Грановскаго того полезнаго положенія, которое онъ занялъ въ общемъ ходѣ развитія русскаго общества и русской науки — именно тѣмъ, что работалъ для науки и общества своего временн. Для историка, болѣе чѣмъ для кого либо другого, должны служить аксіомой слова поэта:
Съ этой точки зрѣнія мы должны взглянуть и на университетскую дѣятельность Грановскаго. Мѣрить ее научными требованіями нашего времени—значило бы отказывать ей въ той исторической оцѣнкѣ, которая одна только и можетъ опредѣлить ея истинное значеніе. Для нашего времени университетскія лекціи Грановскаго уже не годятся,— и вотъ причина,— помимо неточности студенческихъ записей—почему онѣ остаются и, вѣроятно, надолго останутся ненапечатанными въ полномъ своемъ видѣ. Но изъ того, что эти лекціи не имѣютъ значенія въ настоящемъ, еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы мы имѣли право отказываться отъ оцѣнки ихъ значенія въ прошломъ. Каковы бы ни были сами по себѣ недостатки лекцій Грановскаго, мы можемъ быть заранѣе увѣрены, что изученіе ихъ освѣтить намъ три оченъ интересныхъ вопроса. Во первыхъ, преподаваніе Грановскаго составляетъ страницу, и одну изъ самыхъ важныхъ, въ исторіи нашего университетскаго преподаванія вообще. Начавшееся въ блестящіе годы обнавленія Московскаго университета и кончившееся въ годы самыхъ тяжолыхъ испытаній для русской университетской науки, это преподаваніе отдѣлено цѣлой бездной отъ предшествовавшихъ ему университетскихъ чтеній и, наоборотъ, неразрывно связано съ преподаваніемъ послѣдующихъ профессоровъ. Такое положеніе преподавательской дѣятельности Грановскаго объясняетъ намъ и то значеніе, которое она имѣетъ для развитія русской исторической науки. Какой кругъ научныхъ взглядовъ и интересовъ вынесли изъ аудиторіи Грановскаго его ученики, ставшіе скоро его товарищами или преемниками по преподаванію,— вотъ другой вопросъ, который нельзя выяснить безъ знакомства съ содержаніемъ университетскихъ лекцій Грановскаго. Наконецъ, третій вопросъ, уясняемый ими, касается литературнонаучной дѣятельности самого Грановскаго. Здѣсь, въ этихъ лекціяхъ, мы найдемъ зародыши нѣсколькихъ его печатныхъ работъ, и сравнивая послѣднія съ лекціями, мы увидимъ, какъ внимательно слѣдитъ Грановскій за новыми явленіями въ сферѣ своей науки, какъ настойчиво добивался онъ истины, не успокоиваясь на разъ принятомъ воззрѣніи; мы поймемъ также, чѣмъ объясняется его выборъ сюжетовъ для печатныхъ работъ и какъ мало случайнаго въ этомъ выборѣ; даже, мнѣ кажется, мы поймемъ не только причины того, что Грановскій сдѣлалъ, — но и объясненіе того, почему Грановскій не успѣлъ сдѣлать остального. Если угодно, — все это не ново; обо всемъ этомъ съ замѣчательной проницательностью и тактомъ говорилъ уже другъ [стр. 15] и ученикъ Грановскаго, Кудрявцевъ. Но только, проникнувъ сами въ ученую лабораторію Грановскаго при помощи его лекцій, мы можемъ оцѣнить по достоииству правдивыя, чуждыя всякаго пристрастія объясненія Кудрявцева. Въ печати изъ университетскихъ лекцій Грановскаго появились только небольшіе отрывки, не могущіе дать понятія о цѣломъ *). Въ рукахъ пр. Виноградова былъ собственноручный конспектъ цѣлаго курса, относимый имъ къ 1839 году (т. е. къ самому началу чтеній Грановскаго въ университетѣ), и студенческая запись курса 1843—1844 г.; но пр. Виноградовъ не ставилъ своей задачей — воспользоваться этими рукописными остатками для характеристики университетскаго курса Грановскаго. Мнѣ лично матеріалъ этотъ остается неизвѣстнымъ, и практическая **) цѣль настоящей статьи не позволяетъ мнѣ дожидаться времени, когда обстоятельства дадутъ мнѣ возможность съ нимъ познакомиться. Единственнымъ моимъ матеріаломъ, на который я хочу обратить вниманіе читателя, служитъ неизвѣстный до сихъ поръ въ печати курсъ 1845—1846 года въ студенческой записи того времени. Курсъ этотъ принадлежитъ вѣрному слушателю Грановскаго, бывшему товарищу предсѣдателя рязанскаго окружнаго суда, M. M. Латышеву, который любезно отдалъ его въ мое распоряжеиіе ***). Текстъ, сохранившійся y M. M. Латышева, (52 лекцій) не чуждъ обычныхъ студенческихъ недоразумѣній; но, вообще говоря, онъ составленъ чрезвычайно тщательно на основаніи записей нѣсколькихъ студентовъ. Тщательность, съ которой составлялся сводный текстъ, видна уже изъ того, что всѣ сомнительныя мѣста отмѣчены въ немъ знаками вопроса; часто сохранены пераллельные варіанты записей, иногда даже совершенно незначительные. При такомъ характерѣ текста во многихъ мѣстахъ удалось сохранить не только содержаніе лекціи Грановскаго, но и ея харатерную форму. Эта форма, которую, конечно, нельзя было бы поддѣлать, сама по себѣ является ручательствомъ за точность записи; другое доказательство этой точности можно было бы найти сопоставляя текстъ лекцій съ параллельными мѣстами печатныхъ статей Грановскаго. Большею частью, печатный текстъ оказывается въ такихъ случаяхъ болѣе сжатымъ, чѣмъ текстъ лекцій; въ отдѣльныхъ случаяхъ сходство почти доходитъ до тожества. Предметомъ курса служитъ средневѣковая исторія,—наиболѣе обычная и любимая тема университетскихъ лекцій Грановскаго. Къ этому курсу онъ готовился уже во время заграничной камандировки; съ него онъ началъ свое преподаваніе въ 1839 году. Изъ переписки видно, что несмотря на самую напряженную работу, Грановскій былъ недоволенъ своимъ первымъ курсомъ и считалъ, что онъ еще ---------------------------- *) Въ журналѣ „Время" за 1862 г. напечатано Бабстомъ введеніе въ курсъ средневѣковой исторіи и характеристики нѣсколькихъ римскихъ императоровъ: затѣмъ проф. Виноградовъ издалъ въ „Сборникѣ въ пользу недостаточныхъ студентовъ университета св. Владиміра" (СПБ. 1895) введеніе къ курсу по собственноручному конспекту 1839 года, съ дополненіями изъ студенческой записи 1843—44 гг. **) Статья была написана П. Н. Милюковымъ въ короткій срокъ спеціально для настоящаго сборника, печатаніемъ котораго необходимо было спѣшить.
***) Ва настоящее время этотъ курсъ Грановскаго переданъ мною, съ согласія уважаемаго М. М. Латышова, въ собственность историческаго музея, въ библіотекѣ котораго хранятся и другія рукописныя записки курсовъ Грановскаго. [стр. 16] недостаточно владѣетъ предметомъ *). Сравненіе конспекта 1839 г. съ нашимъ курсомъ 1845-46 г. могло бы показать, насколько онъ успѣлъ усовершенствовать свой курсъ. Не имѣя возможности сдѣлать это сравненіе, мы замѣтимъ только, что во время самыхъ чтеній 1845-46 г. Грановскій едва ли могъ посвятить много времени переработкѣ своего средневѣковаго курса, такъ какъ въ одномъ университетѣ онъ занятъ былъ въ это время 10 часовъ въ недѣлю, да сверхъ того читалъ второй изъ своихъ публичныхъ курсовъ, который собирался напечатать и которому, вѣроятно, посвящалъ болыпую часть своего рабочаго времени *). Несмотря на это, годъ нашей записи, 1845-46, можетъ считаться очень благопріятнымъ моментомъ для характеристики университетскаго курса Грановскаго. Съ одной стороны, Грановскій успѣлъ къ этому времени достаточно углубиться въ историческій матеріалъ: это видно уже изъ того. что съ этого времени онъ начинаетъ по частямъ обработывать содержаніе своего курса для цѣлаго ряда журнальныхъ статей и рецензій. Съ другой стороны, имъ еще не овладѣло тяжлеое настроеніе послѣднихъ лѣтъ его жизни, то острое недовольство собой и жизнью, которое такъ сквозитъ въ перепискѣ,—та «апатія и усталость», которую слушатели послѣднихъ выпусковъ подмѣчали на лицѣ профессора... ***)
----------------------------- *) Переписка, стр. 365: „я читаю среднюю исторію, два курса: одинъ для юристовъ, другой для филологовъ; всего шесть часовъ вь недѣлю. Работы ужасно много, болѣе, нежели я думалъ. Круглымъ числомъ я занимаюсь по 10 часовъ вь сутки, иногда приходится и болѣе. Польза отъ этого постояннаго, упрямаго труда (какою я до сихъ поръ не зналъ), очень велика; я учусь съ каждымъ днемъ. Только теперь начинаю понимать исторію въ связи. Студенты мною довольны, a я ими еще болѣе... Я очень зиаю, что еще не стою этого вниманія, вижу ясно всѣ недостатки, — и чувствую рѣшительную невозможность—читать въ этомъ году иначе. Здѣсь рѣчь идетъ не о способѣ изложенія, a o расположеніи частей предмета. Между ними нѣтъ соразмѣрности—многое прочтешь слишкомъ подробно, другое кратко—самъ не знаешь, какъ быть. — Ср. тамъ же, стр. 381: „Я самъ недоволенъ моими лекціями, и ни за что не согласился бы прочесть еще разъ то, что читалъ, но не могу не замѣтить, успѣха... Еще года два и я буду хозяиномъ предмета; теперь онъ владѣетъ мною, не я имъ". **) Переписка, стр. 419—420, письмо отъ 17 окб. 1845 г.: „я работаю много теперь. У меня въ университетѣ 10 лекцій въ недѣлю, Сверхъ того я собираюсь читать публичный курсъ". Тамъ же. 421—422, письмо отъ февраля 1846 г.; „я никогда не былъ такъ занятъ, какъ нъшѣшнею зимою.., Публичныя мои лекціи идутъ хорошо... Лѣтомъ... займусь приготовленіемъ къ печати моихъ лекцій. Хочется издать „Курсъ сравнительной исторіи Франціи и Англіи до XYII вѣка". ***) Въ первомъ изданіи напечатаны были извлеченія изъ всего курса съ комментаріями П. ., Милюкова. Тутъ мы приводимъ извлеченія, захватывающія конецъ Римской Имперіи и начала среднихъ вѣковъ.—Эта часть особенно интересна въ томъ отношеніи, что въ ней наглядно проявляется воодушевлявшая Грановскаго вѣра въ человѣчество, которая особенно ярко проявляется въ изображеніи эпохъ глубокаго паденія или варварства политическаго и нравственнаго. Здѣсь Грановскаго никогда ие оставляетъ мысль, что въ самыхъ дикихъ ордахъ въ исторіи можно услышать біеніе человѣческаго сердца и что изъ пепла и разложенія всегда возраждается новая жизнь. Эта черта придаетъ особенный интересъ перепечатываемымъ здѣсь отрывкамъ, касающимся Имперіи и составдяющимъ какъ бы особое цѣлое. Рядъ ихъ начинается съ блестящей характеристики Юлія Цезаря, центральный образъ котораго представляетъ собою связующее звено между античнымъ и европейскимъ міромъ. Ред. [стр. 17]
Грановскій.
Выдержки изъ лекцій Грановскаго о паденіи Римской Имперіи.Юлій Цезарь положилъ конецъ существованію Римской республики въ прежней ея формѣ. Имъ оканчивается зрѣлый возрастъ древняго міра; онъ стоитъ какъ бы на порогѣ между двумя періодами жизненнаго развитія древности—безспорно, самой величавой, самой дивной изъ всѣхъ личностей, которыя выступали когда нибудь на сцену древней жизни. Нужно было это удивительное соединеніе всѣхъ пороковъ, всѣхъ старыхъ силъ, развившихся въ развращенной республикѣ римской, съ добродѣтелями новыми, чуждыми ей, — которыя сошлись въ Цезарѣ для того, чтобъ произвести такой рѣшительный переворотъ. Въ молодости своей Цезарь былъ однимѣ изъ начальниковъ буйной аристократической молодежи, которая волновала Римъ оргіями и разными заговорами. Аристократъ по происхожденію, съ гордостью вычислявшій въ надгроб- [стр.18] номъ словѣ своей бабкѣ своихъ громкихъ предковъ, производившій родъ свой отъ боговъ и царей, Юлій Цезарь былъ величайшимъ демократомъ древняго міра—онъ убилъ окончательно римскую аристократію въ самыхъ преданіяхъ ея, онъ унизилъ сенатъ до гладіаторскихъ упражненій, вывелъ всадниковъ на сцену въ презрительномъ для тогдашнихъ римлянъ званіи актеровъ, смѣялся надъ самыми святыми и великими преданіями римской исторіи, ввелъ въ сенатъ толпы иностранцевъ, людей, выключенныхъ изъ списка римскихъ гражданъ, но служившихъ ему вѣрно въ его враждѣ съ сенаторами. Однимъ словомъ, ни одно изъ величайшихъ преданій римской жизни не остановило его насмѣшекъ и фактическихъ насилій. — Съ другой стороны, Юлій Цезарь облегчилъ бѣдственное положеніе провинцій, страдавшихъ подъ невыносимымъ ярмомъ римскихъ намѣстниковъ. Съ этого времени Римъ пересталъ быть главнымъ городомъ, провинціи перестали быть только средствами. Онъ, такъ сказать, разбилъ грань римской національности, вышедши самъ изъ нея. Объ его характерѣ Светоній разсказываетъ такія черты, которыя приводятъ въ изумленіе даже Светонія, хотя принадлежащаго къ позднѣйшему періоду римской имперіи. Этотъ историкъ съ величайшимъ удивленіемъ разсказываетъ, что Цезарю недоставало духа предавать пыткѣ рабовъ своихъ — вещъ самая обыкновенная для римскихъ аристократовъ,— что ему недоставало твердости отмстить шпіонамъ, которые предали его во время гоненія Суллы. Эта мягкость была совсѣмъ не въ римскихъ нравахъ. Цезарь не даромъ жилъ почти въ одно время съ началомъ христіанства. Сѣмена его, зародышъ—лежитъ во времени Цезаря. Уже языческій элементъ побѣжденъ этимъ новымъ человѣкомъ, хотя этотъ новый человѣкъ еще носитъ много грязнаго, завѣщаннаго прежней жизнью римской республики. Въ смыслѣ древности (убійцы Цезаря) дѣйствовали законно. И пороки и добродѣтели Цезаря были равно гибельны для порядка вещей, который они защищали... Весьма любопытно то обстоятельство, что y трупа Цезаря собрались съ плачемъ всѣ иностранцы, жившіе въ Римѣ. Евреи проводили цѣлыя ночи y праха его, дорожа имъ, какъ святынею. Это былъ первый изъ римскихъ гражданъ, который понялъ и отдалъ справедливость человѣческому достоинству другихъ національностей... Убійцы Цезаря тоже пали, защищая дѣло, осужденное на погибель, какъ благородныя жертвы убѣжденія, къ осуществленію котораго y нихъ не достало силъ». Въ слѣдующей затѣмъ характеристикѣ Августа подчеркнуто его стремленіе возстановить римское національное начало. «Никакое время не наслаждалось такимъ благосостояніемъ, какъ первыя два столѣтія римской имперіи. Участь провинцій облегчилась; очень умно поставленная административная система связала части государства; недоставало одного внутренняго единства, религіознаго и національнаго. Августъ, стоявшій безконечно выше своихъ преемниковъ, воспитанный въ переворотахъ политическихъ, которые такъ быстро развиваютъ историческое разумѣніе,—понялъ тот-часъ страшный недостатокъ римскаго міра, отсутствіе связующаго, жизненнаго начала. И потому Августъ старался замѣнить такое начало возстановленіемъ той строгой нравственности, которою отличался древній Римъ. Онъ старался передать чистыя формы древней семейной римской жизни всѣмъ гражданамъ Рима. [стр. 19] Сюда принадлежатъ его законы противъ роскоши... и многія другія узаконенія. Но всѣ эти попытки остались безплодными. Римское семейство, какъ оно существовало во время республики, не могло возродиться въ эти времена,—ибо это древнее семейство римскаго міра, существенно отличное отъ семейства христіанскаго, было условлено всѣмъ политическимъ бытомъ Рима, опредѣлено юридически, въ безжалостныхъ отношеніяхъ между отцомъ и дѣтьми. Такое опредѣленіе было невозможно во времена Августа—жестокіе законы остались, но духъ исчезъ». По поводу Тиберія Грановскій спрашиваетъ: 3. «На чемъ основывалось могущество этого дряхлаго старика, отвратительной личности, никѣмъ нелюбимаго, даже не жившаго въ Римѣ, a изъ своего пустыннаго острова управлявшаго судьбами величайшаго государства цѣлаго міра?» И онъ отвѣчаегь: «На страхѣ. Въ римскомъ мірѣ не осталось ни одного живого начала, которое могло бы связать разрозненныя цѣли. Разъединенный религіею, безъ національнаго единства, народъ былъ связываемъ только общимъ чувствомъ страха. Римляне столько же боялись императора, сколько императоръ—ихъ самихъ. Недовѣрчивость была взаимная». Характеристика деспота сотвѣтствуетъ изображенію тогдашняго римскаго (столичнаго) народа. «Калигула палъ подъ ударами двухъ центуріоновъ гвардейскихъ, побуждаемыхъ и личною ненавистью къ императору, и республиканскими воспоминаніями. Это былъ важный, торжественный моментъ въ жизни тогдашняго Рима. Сенатъ собрался немедленно, въ надеждѣ возстановить республику. Народъ волновался, отчасти сожалѣя о Калигулѣ. На эту развратную массу, plebs sordida (какъ называетъ ее Тацитъ), не падали удары деспотизма; она смотрѣла равнодушно на гибель благородныхъ людей, священныхъ преданій. Игры въ циркѣ и ежемѣсячныя раздачи хлѣба народу продолжались по прежнему. Калигула былъ щедрѣе своихъ предшественниковъ и потому его любили низшіе классы народные... Сенатъ не успѣлъ въ своихъ намѣреніяхъ, уже несогласныхъ съ духомъ времени. Кромѣ самихъ сенаторовъ никто не звалъ назадъ республики». Въ другомъ мѣстѣ Грановскій говоритъ о народѣ. «Замѣчательна одна черта — глубокая любовь, которая осталась въ массахъ римскихъ къ Нерону. Впродолженіе 30 лѣтъ являлись безпрерывно самозванцы, принимавшіе имя Нерона, и однимъ этимъ именемъ двигавшіе цѣлыми народонаселеніями. И въ этомъ видно распаденіе древняго міра. Такія чудовища, какъ Неронъ, были любимы народомъ —ибо ихъ удары падали преимущественно на образованные, болѣе нравственные и болѣе благородные классы народные, нежели эта sordiba plebs, въ которой соединилось все, что было презрѣннѣйшаго и позорнѣйшаго въ тогдашнемъ мірѣ». Но среди общаго паденія историкъ отмѣчаетъ задатки лучшаго будущаго: «Жизнь этихъ женщинъ (Мессалины и Агриппины) озаряетъ страшнымъ свѣтомъ внутренность домовъ римскихъ, семейную жизнь римской аристократіи. Въ цѣлой исторіи римской семьи не найдемъ примѣра такого чудовищнаго разврата,—a между тѣмъ, несмотря на это разрушеніе древней жизни, видимъ медленную рабо- [стр. 20] ту и развитіе новыхъ началъ, хотя безсознательно, но могущественно проникающихъ въ новое общество. Независимо отъ христіанства являются они въ жизни— въ отмѣненіи жестокихъ поступковъ римскихъ господъ съ рабами, въ которыхъ доселѣ законъ не признавалъ человѣческой личности. Клавдій, этотъ полоумный, пьяный правитель, издалъ первыя смѣлыя постановленія, которыми ограничивалась власть римскихъ господъ надъ рабами. Этими постановленіями y нихъ отнималось право по произволу наказывать рабовъ смертію. Господинъ, бросившій больного раба безъ призрѣнія, терялъ право на владѣніе этимъ рабомъ. Это было нововведеніе неслыханное. Если сличимъ эти постановленія съ прежними, то они покажутъ намъ, какой огромный путь совершило человѣчество отъ блестящихъ временъ римской республики до этого времени видимаго упадка, но существеннаго перехода къ новымъ требованіямъ. Въ этой нечистой и развратной средѣ выработывались тѣ великія начала, въ которыхъ находится основаніе нравственнаго убѣжденія новаго времени,—провозглашены были тѣ великія истины, которыя разъ навсегда сдѣлались неизмѣннымъ достояніемъ человѣчества. Онѣ разумѣется были высказаны неясно, облечены въ тогдашнюю историческую форму; имъ надобенъ былъ длинный рядъ вѣковъ, чтобы быть разработанными и дойти до яснаго сознанія». Зародыши лучшаго обусловливались вліяніемъ стоической философіи. «При этомъ случаѣ, надобно замѣтить начало новой, могущественной оппозиціи, развившейся изъ римской жизни противъ своеволія императорскаго. Мы видѣли, какъ всѣ элементы этой жизни, отдѣльно взятые, были безсильны и какъ разрознены въ интересахъ. Никакое нравственное начало не могло соединить народа къ одной общей цѣли. При (двухъ послѣднихъ?) императорахъ мы замѣтили въ сенатѣ, въ войскахъ, — однимъ словомъ, въ рядахъ лучшихъ и могущественнѣйшихъ людей въ государствѣ,—сильныя и смѣлыя обнаруженія негодованія. Это была уже не патріотическая попытка возстановить формы навсегда погибшія. Эта оппозиція вышла изъ совершенно другого начала, изъ стоической философіи, которая именно при Клавдіи и Неронѣ начала распространяться въ Римѣ. Эта философія, такъ высоко поставившая личное достоинство человѣка и въ тоже время учившая такому презрѣнію къ жизни и смерти, направлявшая человѣка къ практической дѣятелъности, была очевидно враждебной новому порядку вещей. Въ числѣ жертвъ Нерона находились преимущественно приверженцы стоической философіи, которая наконецъ одержала побѣду и взошла на престолъ въ лицѣ Антониновъ и Марка Аврелія. «Въ третьемъ столѣтіи мы видимъ, говоритъ Грановскій, на престолѣ римскомъ нѣсколькихъ отличнѣйшихъ государей, въ которыхъ проснулся римскій духъ во всей своей энергіи и гордости, хотя они были отчасти иноземцы, усвоенные Римомъ. Римъ опирался на 32 легіона—такое войско, которому равнаго не могъ противопоставить ни одинъ народъ. Матеріальное благосостояніе Рима, хотя поколебленное, было еще велико. Отличные ученые являлись во всѣхъ отрасляхъъ знанія. Въ сенатѣ засѣдали люди съ патріотическимъ чувствомъ, съ любовію къ добру. И между тѣмъ, несмотря на всѣ усилія императоровъ, отдѣльныхъ лицъ изъ сената, и реформы, которыя всѣ стремились къ одной цѣли,—эта цѣль осталась недостигнутою. Въ исторіи человѣчества есть такія несчастныя эпохи, [стр. 21] въ которыя реформы не могутъ быть дѣломъ такъ называемаго правильнаго развитія, въ которыя между требованіями новаго времени и между требованіями и притязаніями уцѣлѣвшихъ историческихъ остатковъ — существуетъ противорѣчіе, которое можетъ быть уничтожено только насиліемъ. Такое насиліе совершено было въ древнемъ мірѣ черезъ Германцевъ, въ XVIII в. черезъ французскую революцію». Къ опасности грозившей отъ германцевъ присоединилась и внутрення смута: «Усилія Максиміана, начавшаго царствовать съ 287 года, направлены были преимущественно противъ галльскихъ багаудовъ; y лѣтописцевъ подъ этимъ именемъ являются шайки крестьянъ и рабовъ, изъ которыхъ въ Галліи составилось многочисленное войско, грабившее безнаказанно города и провинціи. Это былъ новый врагъ, явный, не извнѣ, a въ самомъ сердцѣ общества,—плодъ, котораго сѣмя давно лежало въ землѣ. Багауды были тѣ низшіе классы общества, которымъ римскіе законы отказывали даже въ человѣческой личности и достоинствѣ, которыхъ коснулись новыя идеи, наполнявшія атмосферу и высказанныя высочайшими умами тогдашняго времени, александрійскими философами и христіанскими проповѣдниками, и въ грубой матеріальной формѣ своей падшія въ народныя массы: это была идея эманципаціи общества». Дойдя до послѣдней четверти IV вѣка, т.е. до начала переселенія народовъ, Грановскій останавливаетъ свой историческій разсказъ для того, чтобы подвести общіе итоги. «Обыкновенно,— замѣчаетъ онъ,— время имперіи называется въ историческихъ сочиненіяхъ временемъ упадка. Конечно, относительно древняго міра это время считается временемъ старости, дряхлости, упадка; но, разсматривая его въ связи съ цѣлымъ историческимъ развитіемъ, оно является временемъ перехода и вырабатыванія новыхъ формъ. Въ это испорченное, несчастное время развились три начала, которымъ суждено было преобладать въ жизненномъ развитіи будущихъ временъ: 1) Административная монархія,— новое начало монархическое, развившееся въ римской имперіи. 2) Въ это время также древняя цивилизація, греческая и римская, составила одно цѣлое и получила возможность перейти къ намъ въ великихъ памятникахъ древней жизни. 3) Наконецъ, подъ сѣнью Римской имперіи развилось христіанство». Затѣмъ Грановскій приступаетъ къ характеристикѣ трехъ намѣченныхъ сторонъ внутренняго быта имперіи. Приводимъ выводъ, который извлекаетъ Грановскій изъ этой части своего изложенія: «Соображая все сказавное, увидимъ ясно, почему Римская имперія въ V столѣтіи такъ легко уступала натиску варваровъ. Въ ней не было ни одного элемента, который могъ бы быть поставленъ въ сопротивленіе имъ. Аристократія, которой члены засѣдали въ римскомъ и константинопольскомъ сенатѣ, была немногочисленна...; она не могла играть никакой роли въ этомъ періодѣ переворотовъ. Чернь, которая могла быть вызвана въ дѣйствіе или вслѣдствіе сильнаго патріотизма, или вслѣдствіе религіознаго одушевленія, была лишена патріотизма и религіи. Какой патріотизмъ могъ оживить этотъ сборъ народовъ, механически связанныхъ, но чуждыхъ одинъ другому по нравамъ и самому языку. Въ такихъ обстоятельствахъ одинъ только средній классъ, совершенно усвоившій [стр. 22] римскую цивилизацію, могъ выступить на поприще и спасти имперію; но его не было. Онъ былъ уничтоженъ, опозоренъ римскою системой податей и налоговъ. Вотъ въ какомъ стостояніи находилась Римская имперія въ то время, когда началось великое движеніе, именуемое переселеніемъ народовъ». Въ трехъ слѣдующихъ лекціяхъ Грановскій переходитъ къ характеристикѣ языческой и христіанской литературы IV и V вѣковъ. Цѣль его въ этомъ отдѣлѣ—показать, «какія идеи и формы достались изъ древней цивилизаціи IV-му и V-му столѣтіямъ,—идеи, которымъ суждено было быть проводниками древней цивилизаціи въ средніе вѣка». Указавъ на различіе между латинскимъ образованіемъ запада и греческимъ образованіемъ востока имперіи, Грановскій начинаетъ затѣмъ свое изображеніе со слѣдующей общей характеристики: «Еще при Августѣ все образованіе Римской имперіи приняло тотъ характеръ, который носитъ образованіе временъ птоломеевыхъ. Въ наукѣ видимъ трудолюбивыхъ дѣятелей изслѣдователей, собирателей; творчество исчезло безвозвратно; исчезло также безкорыстное занятіе наукою, свободное домогательство истины. Конечно, и въ провинціяхъ римскихъ видимъ людей богатаго сословія, занимающихся наукою; но эти люди ушли, такъ сказать, въ науку отъ жизни, искали въ ней развлеченія, a не отвѣтовъ на высшіе запросы человѣческой жизни. Единственною сферой, гдѣ духъ сохранялъ еще свою свободу, была, разумѣется, философія, которой главные представители въ древней исторіи были стоики. Мы уже говорили, въ какомъ отношеніи былъ стоицизмъ къ правительству и къ народу римскому, какъ изъ философской школы развилась политическая оппозиція, отпраздновавшая блистательную побѣду при МаркѣАвреліи, воспитанникѣ этой философіи. Но это торжество стоической философіи было непродолжительно. Такимъ образомъ, философія осталась удѣломъ немногихъ избранныхъ и лучшихъ людей. Непосредственно послѣ Марка - Аврелія вступаютъ на престолъ лица совершенно другого образа мыслей, и вліяніе, которое имѣла философія на политическія дѣла въ первыя три четверти 2-го столѣтія, прекращается». Но философія продолжаетъ развиваться и вліятъ на римское общество. Приводимъ въ высшей степени характерный для Грановскаго отрывокъ заключающій въ себѣ изображеніе неоплатонизма: «Въ этомъ ничтожествѣ угасающей литературы, въ этомъ старческомъ бредѣ вялаго общества была одна сторона, могущественная, сильная, въ которой сосредоточивалось все, что было глубоко понимающаго и сильнаго духомъ. Это была неоплатоническая александрійская философія... Неоплатоническую школу упрекаютъ въ отсутствіи самостоятельности, въ безсознательномъ смѣшеніи разнородныхъ элементовъ. Но неоплатоники приняли великую мысль органическаго развитія философіи; они поняли преемственность системъ философскихъ (изъ которыхъ каждая не выполняетъ совершенно цѣли философіи); поняли каждую систему, какъ одинъ моментъ въ исторіи философіи, не давая, впрочемъ, ни одной изъ нихъ конечнаго значенія. Они положили въ основаніе своихъ изслѣдованій творенія Платона, привлекаемые къ нему богатствомъ его философскаго воззрѣнія; но они связали его ученіе съ ученіемъ Пиѳагора и Аристотеля. Они не остановились и на этомъ; они вышли изъ сферы философіи въ сферу исто- [стр. 23] ріи и религіи и здѣсь держались той же путеводной нити; вездѣ слѣдовали они органическому развитію. Они приняли, что въ исторіи человѣчества все истекаетъ одно изъ другого. Съ этой высокой точки зрѣнія старались они объединить древнія религіи, показать, что въ каждой языческой религіи дано было откровеніе, что всѣ религіи древняго міра суть не что иное, какъ рядъ откровеній. И здѣсь, несмотря на всю глубину этого пониманія, они впали въ великое заблужденіе; глубокіе истолкователи предшествующихъ формъ, они съ ненавистью говорили о христіанствѣ. Только отдѣльныя личности, вышедшія изъ этой школы, оцѣнили по достоинству христіанство. Но между тѣмъ ни одна философія не имѣла такого сильнаго вліянія на ученую форму христіанской догматики, какъ неоплатонизмъ. Противъ неоплатониковъ раздаются преимущественно два обвиненія. Одно, болѣе въ видѣ похвалы, принадлежитъ Cousin'y, который называетъ ихъ эклектиками и по образу ихъ хотѣлъ создать философскую систему во Франціи. По его мнѣнію, они выбирали, склепывали свое ученіе изъ предшествующихъ системъ. Но въ этомъ обвиненіи нѣтъ ничего оскорбительнаго. Надобно понять, что есть лучшаго въ предшествующихъ философскихъ системахъ и какъ сшить разорванныя части. Каждая система невольно принимаетъ всѣ лучшіе элементы системъ предыдущихъ, отвергая (ихъ заблужденія). Другое обвиненіе, въ мірѣ практическомъ, принадлежитъ Шлоссеру: оно состоитъ въ томъ, что неоплатоники просто мечтатели, оторвались совершенно отъ современной жизни и что въ ихъ философіи видимъ боязливое удаленіе отъ дѣйствительности, что они изъ сферы философіи перешли въ сферу мистицизма, проповѣдуя ученіе, странно поражающее воображеніе. Противъ этого обвиненія готовъ отвѣтъ. Я сказалъ, что платоническіе философы были самые глубокіе умы того времени. Гдѣ же были великіе интересы, которые могли бы ихъ вызвать къ дѣятельносги? Они были загнаны въ науку и умозрѣніе пустотою современнаго вѣка. Съ негодованіемъ, съ отвращеніемъ отвернулись они отъ дѣйствительности, ничѣмъ не привлекавшей ихъ сочувствія. Отсюда происходятъ всѣ ихъ недостатки. Отвлекаясь отъ жалкой, нелѣпой дѣйствительности языческаго міра, они проповѣдывали такое презрѣніе къ ней и ко всему міру, что впали во всѣ крайности мистицизма. Они приписали духу человѣческому такую безконечную силу, были такъ сильно убѣждены въ глубокомъ владычествѣ духа надъ матеріей, что вѣрили въ возможность подчинить явленія природы духу человѣческому. Отсюда ихъ суевѣрія, вѣра въ магію, волшебство, демонологія и т. д. Очевидно, это не что иное, какъ искаженіе благороднаго, истиннаго начала вѣры въ силу духа». Но не неоплатонизму принадлежитъ будущее, ахристіанству, торжеству котораго содѣйствуетъ Константинъ. Приводимъ отзывъ Грановскаго о Константинѣ: «Мы не должны думать, чтобъ одно только религіозное вѣрованіе и убѣжденіе сердца привели Константина къ такому смѣлому поступку. При совершенномъ отсутствіи общихъ интересовъ, напротивъ даже при враждебныхъ направленіяхъ, подъ которыми развивалась древняя жизнь, при разрозненности римскаго міра,—одна только христіанская партія составляла единое цѣлое, связанное внутреннимъ единствомъ убѣжденія и внѣшнею формой іерархіи, уже образовавшейся въ христіанской церкви. Это была единственная дружная и могущественная политическая партія, не говоря о высшемъ ея значеніи. Этимъ объ- [стр. 24] ясняется отчасти переходъ Константина къ христіанству и легкая побѣда его надъ всѣми противниками... Съ практическимъ стремленіемъ государственнаго мужа Константинъ соединялъ глубокое пониманіе современнаго вопроса». Сопоставимъ съ этимъ отзывомъ сужденіе объ Юліанѣ, который напрасно пытается возстановить старое язычество: «Двухлѣтнее царствованіе Юліана имѣетъ всемірно-историческое значеніе, какъ реакція язычества противъ христіанства, какъ попытка возстановить старое время во всей его первобытной красотѣ,—попытка тѣмъ болѣе замѣчательная, что во главѣ ея стоялъ человѣкъ, какъ Юліанъ,—личность высокая, чистая и благородная, не понявшая христіанскаго ученія, ибо оно дошло до него въ искаженномъ видѣ чрезъ жестокихъ, фанатическихъ наставниковъ. Юліанъ былъ глубоко оскорбленъ зрѣлищемъ придворныхъ интригъ, въ которыхъ участвовали епископы, высшіе сановники христіанской церкви; онъ былъ оскорбленъ формализмомъ, чуждымъ собственно современнымъ христіанскимъ понятіямъ, но внесеннымъ нѣкоторыми лицами того времени. Между тѣмъ его привлекала греческая наука, греческое искусство и гражданская жизнь Рима. Эту-то жизнь и науку онъ хотѣлъ возстановить. Юліанъ понялъ, какая тѣсная связь существуетъ между этою наукой и жизнью—и прошедшими религіями языческаго міра,—и хотѣлъ вызвать религію обратно въ жизнь. Но возстановить ихъ въ первобытномъ ихъ состояніи было невозможно; самые ученые язычники были уже иначе настроены. Стремленіе къ таинствамъ, къ мистеріямъ, которымъ отличается четвертый вѣкъ, должно было быть удовлетворено, и Юліанъ съ своими друзьями, софистами греческими, старался создать такую религію, или лучше амальгаму религій, которая бы удовлетворяла современнымъ требованіямъ и въ то же время вытѣснила христіанскія понятія—мысль безумная, которой результаты не пережили Юліана. Онъ вскорѣ погибъ на войнѣ съ персами,—послѣдній великій представитель языческаго Рима или, лучше сказать, всего древняго міра. Въ немъ соединились греческіе и римскіе элементы,—конечно, не въ той чистотѣ, въ какой мы видимъ ихъ y Александра и Цезаря; но онъ стоитъ какъ бы на послѣднемъ рубежѣ языческаго міра. Въ немъ чистые элементы древней жизни не могли остаться нетронутыми новыми понятіями. Но все мы видимъ въ Юліанѣ мучительную борьбу этихъ двухъ враждебныхъ началъ,— борьбу, которая высказывалась въ самой наружности его, по свидѣтельству св. Григорія Назіанзина. Язычники обвиняютъ въ его смерти христіанъ. Это обвиненіе столь же несправедливо, какъ и обвиненіе христіанами Юліана въ отравленіи Констанція. Въ немъ обличается только борьба партій, враждебныхъ и непримиряющихся»... |
||
|
Также по теме: А. Дж. Киракосян: Полк. Як. Д. Лазаревъ: |