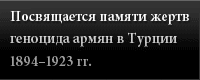| Внимание!
Предлагаемый ниже текст написан в дореволюционной орфографии. Если
текст не отображается корректно, см. Просмотр
русских текстов в старой орфографии.
БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМЪ ВЪ ТУРЦИИ АРМЯНАМЪ
 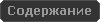 
ОТДѢЛЪ I.
[стр. 430]
Фантазія на трагедію „Гамлетъ"
... Ernst und stumm
In seinen Thoren jede Nacht
Geht die begrab'ne Freiheit um
Und winkt den Männern auf der Wacht.
Freiligrath. „Hamlet".
I.
Среди суровой сѣверной природы Даніи раскинулось мѣстечко Эльзиноръ. Осенняя ночь застаетъ зрителя y стѣнъ королeвскаго замка. Уже за полночь. Луны не видно, она скрыта облаками. Въ бѣлесоватомъ сумракѣ вырѣзываются очертанія башенъ стариннаго рыцарскаго замка. Вокругъ таинственная тишина. Лишь изрѣдка завываетъ въ бойницахъ вѣтеръ, шумятъ старыя ели, донесется тоскливый звонъ башеннаго колокола да слышится неугомонный ропотъ морскихъ волнъ...
Жутко стражѣ, оберегающей входы и выходы королевскаго замка. Вотъ уже которую ночь старый замокъ посѣщается страннымъ видѣніемъ. Безмолвно мелькаетъ оно по дворцовымъ переходамъ — блѣдное, грустное, — видимо, страдающее, точь въ точь какъ призраки старинныхъ преданій, предвѣщающіе годину бѣдствій. Невольно спрашиваешь себя: о чемъ страждетъ безпокойный призракъ? Для чего покидаетъ онъ свою нетлѣнную оболочку, чтобы, воплотившись на краткій срокъ, исчезнуть при первой попыткѣ уловить его? Найдетъ ли успокоеніе этотъ неземной грустно-блуждающій Духъ человѣческій въ земной обстановкѣ — въ странѣ потерь и скорби? Его ли мѣсто здѣсь?..
Такіе же, повидимому, вопросы задаютъ себѣ трое людей, проводящихъ ночь y воротъ эльзинорскаго замка: ученый педантъ — многоумный Гораціо — и двое стражниковъ —Бернардо и Марцелло, болѣе отважныхъ и простодушныхъ, чѣмъ ученыхъ, приведшихъ сюда Гораціо объяснить имъ необъяснимое.
Но Гамлетъ, ставши воочію лицомъ къ лицу съ тѣнью, называетъ ее именемъ «своего отца, властителя, героя, полубога»,—заклинаетъ говорить, не дать погибнуть въ незнаніи». Таково обращеніе пылкой души къ Духу, первоисточ-
[стр. 431]
нику ея существованія. Невѣдомая даль, куда зоветъ Духъ своего возлюбленнаго сына, заставляетъ его на мгновеніе колебаться, но это только — «слова, слова, слова»... И онъ идетъ за призракомъ получить отвѣтъ на вѣковѣчный вопросъ: что дѣлать? — what should we do?
Эта сцена передаетъ въ лицахъ исторію юношескаго разочарованія, а также исторію Духа (Ghost), обнаруживающаго любимому сыну тайну своей гибели и такимъ образомъ вводящаго его въ настоящую общечеловѣческую жизнь посредствомъ объясненія истиннаго смысла людскихъ отношеній. Идеалистъ ошеломленъ откровеніемъ. Недаромъ Гамлетъ, слѣдуя за призракомъ (spirit), вдругъ останавливается?
Куда ведешь ты? Стой. Я дальше не иду.
Онъ какъ бы предчувствуетъ утрату прежняго спокойствія и надвигающуюся борьбу.
Духъ не медлитъ призвать человѣка на служеніе себѣ: Mark me. — Онъ какъ бы хочетъ сказать: сосредоточь все вниманіе на мнѣ, забудь обо всемъ, предайся мнѣ...
— I will,— отвѣчаетъ Гамлетъ, и этому союзу, заключенному въ два слова, внимаютъ лишь пустынный берегъ моря, небо да скалы.
Такимъ образомъ въ завязкѣ трагедіи набросана картина развитія челоческаго духа, уже съ первыхъ шаговъ самостоятельнаго мышленія пораженнаго несоотвѣтствіемъ идеала съ жизнью. Позорная дѣйствительность встала предъ просвѣтленнымъ взоромъ Гамлета, и онъ немедленно жаждетъ внести въ нее свѣтлыя начала.
— «О, проклятая ненависть (къ злодѣйству) за то, что я вынужденъ обосновать ее справедливостью (по неувѣренности въ злодѣйствѣ)!» — такова буквальная передача словъ, вложенныхъ Шекспиромъ въ уста героя, вооружающагося на борьбу съ людскимъ зломъ. Обосновать ненависть справедливостью — таковъ лозунгъ, съ которымъ Гамлетъ ринется въ эту борьбу.
II.
Взглядъ на Гамлета, какъ на героя только занимательнаго представленія, наиболѣе соотвѣтствовалъ безхитростному времени Шекспира, развѣ за небольшими исключеніями. Co временемъ возникъ вопросъ, нельзя ли извлечь нравственный смыслъ изъ художественной фабулы трагедіи, и вотъ заговорили о внутренней сторонѣ творчества Шекспира. Началась вѣчно-юная исторія пріуроченія Шекспира къ обстоятельствамъ вѣка и среды современныхъ тому комментатору, который брался толковать поэта. Всякій человѣкъ какого бы то ни было темперамента и общественнаго положенія найдетъ въ твореніяхъ генія именно то, что хочетъ, въ чемъ нуждается, все равно какъ въ Библіи, по выраженію Рюмелина. Противники такихъ пріемовъ находили, что нельзя переводить языкъ XVI в. по словарю XIX в., т.-е. иными словами, что значеніе и сила выраже-
[стр. 432]
нія словъ теряются съ теченіемъ времени. Хотя подобныя мнѣнія съ одной стороны исключаютъ, повидимому, всякую возможность толкованія Шекспира, зато съ другой — какъ бы признаютъ самый широкій произволъ въ пониманіи языка XVI в. по мѣркѣ вѣка ХІХ-го. Выборъ ясенъ: или вовсе отказаться отъ стремленія понятъ Шекспира, или понять его условно, навязывая ему культуру вашей современности, то, что, по словамъ Гёте, называется духомъ времени и что, въ сущности, не что иное, какъ личное ваше мнѣніе, въ которомъ духъ вѣка отраженъ. Но не такъ-то легко отказаться отъ своей личности. Да и нужно ли это?
Современная философія въ лицѣ Дюринга, Спенсера, Гюйо и друг. перестаетъ интересоваться исключительно метафизической стороной дѣла, стараясь уловить утилитарный смыслъ отвлеченнаго мышленія. Наше общество болѣе, чѣмъ всякое другое, ждетъ борца противъ себя же, спасителя отъ себя же самого, отъ своихъ слабостей и пороковъ; и y поэта оно ищетъ путей къ новому,— въ сущности, никогда не умирающему старому идеалу нравственности и красоты. Стоящіе на перепутьѣ между свѣтомъ и тьмой колеблются, какъ въ сказкѣ: пойти ли направо въ поиски за героемъ, избавляющимъ отъ гнетущаго состоянія потери идеаловъ, и найти тамъ, быть можетъ, гибель, или обратиться влѣво на призывъ темной ночи, еще глубже погрузиться въ чувственныхъ ощущеніяхъ и безконечно спать разнѣживающимъ животнымъ сномъ.
Въ такомъ настроеніи читатель берется за комментаріи къ трагедіи «Гамлетъ» и узнаетъ, что герой ея не что иное, какъ слабодушный мечтатель, почти неврастеникъ, растрачивающій жаръ своего сердца и дѣятельности на громкія фразы во вредъ его же собственному дѣлу. Но такой взглядъ вредилъ бы всего болѣе самому читателю, гипнотизируя его проповѣдью безволія и разврата риторики. И вотъ если прислушаться къ тѣмъ, кто смотритъ на Гамлета, обращая болѣе вниманія на альтруистическую сторону его характера, a не съ метафизической точки зрѣнія, то можно найти въ немъ и любвеобильное самоотверженіе аскета, и геройскій подвигъ рыцаря.
He произошла ли та неясность и двойственность, которая бросается въ глаза каждому, сколько-нибудь внимательному, читателю «Гамлета», изъ-за несоотвѣтствія грубой оболочки возвышенному содержанію, скрытому въ трагедіи? He сдѣлалъ ли Шекспиръ уступки вкусу современниковъ съ цѣлью провести типъ идеалиста, самъ по себѣ мало понятный толпѣ — «сброду клерковъ, лордовъ, мясниковъ» и т. д.? Осуществляя въ «Гамлетѣ» свою личную мечту, поэтъ, конечно, могъ желать сдѣлать ее въ то же время доступной пониманію массы. Желаніе его сбылось въ большей мѣрѣ, чѣмъ даже онъ ожидалъ. Толпа и до сихъ поръ очаровывается «Гамлетомъ», a множество толкователей употребляютъ всѣ усилія осмыслить это очарованіе толпы. Мечта поэта должна была обладать исключительнымъ интересомъ и могуществомъ, чтобы производить такое впечатлѣніе на разстояніи почти трехъ столѣтій. Невольно возникаетъ сомнѣніе, безусловно ли безгрѣшенъ общераспространенный взглядъ, такъ прочно, повидимому, установившійся на сущность любимой трагедіи Шекспира?
Если бы «Гамлетъ» представлялъ только анализъ слабой воли, подобно анализу ревности, какъ въ «Отелло», или честолюбія въ «Макбетѣ», мы могли бы
[стр. 433]
удивляться высказанному поэтомъ мастерству или приходить въ ужасъ отъ правдиваго изображенія разнузданной страсти, но никогда мы не ощутили бы того томящаго, почти мистическаго чувства, какое охватываетъ зрителя по мѣрѣ развитія драмы Датскаго принца.
Среди насъ большинство достаточно закалено для того, чтобы въ борьбѣ съ самимъ собою добиваться какихъ-либо результатовъ, хотя бы въ видѣ куска трудового хлѣба. Въ этомъ смыслѣ намъ можетъ быть даже чуждымъ этотъ гордый, праздный принцъ. Слѣдовательно, и картина страданій человѣка, отягощеннаго бездѣятельностью, еще не такъ близка нашему сердцу. Наоборотъ, что бы тамъ ни говорили, мало сочувствія возбудилъ бы къ себѣ нищій духомъ, на чьи слабыя плечи прихотью судьбы возложенъ богатырскій подвигъ: эта ничѣмъ не прикрытая язва слабодушія насъ попросту отталкиваетъ. Что до того, что Гамлетъ, по выраженію Гёте, «высоко-нравственное существо, которому недостаетъ только силы духа для совершенія своего дѣла», — вѣдь, такой недостатокъ есть именно случайностъ, a случайное не подлежитъ вѣдѣнію искусства, какъ все ненормальное, больное, не подчиняющееся здравымъ законамъ жизни.
Въ трагедіи, вообще, не дано разгадки поведенія Гамлета; однако, можно утверждать, что причины эти не во внѣшнихъ затрудненіяхъ. Это чувствуется само собою, помимо всякихъ доказательетвъ. У Гамлета есть болѣе глубокія основанія, коренящіяся внѣ его темперамента. A если это такъ, то вопросъ о слабой волѣ или о несоотвѣтствіи силы духа съ громадностью предстоящаго дѣла устраняется самъ собою, потому что тогда пришлось бы говорить о трусости Гамлета, объ отсутствіи y него понятія долга и даже о бѣдности его умственныхъ и душевныхъ качествъ. Что же останавливаетъ его въ немедленномъ совершеніи мести, когда, по его словамъ, въ немъ для дѣла —
И сила есть, и средства, и желанье,—
когда онъ стоитъ головою выше своей среды?
Въ основу «Гамлета» положены самыя широкія задачи реальной жизни, разрѣшеніемъ которыхъ зритель всегда заинтересованъ несравненно болѣе, чѣмъ изображеніемъ, даже геніальнымъ, какой-либо отдѣльной, хотя бы самой возвышенной страсти. Анализъ нерѣшительности соединенъ въ «Гамлетѣ» съ чѣмъ-то такимъ нравственно прекраснымъ, что представляетъ эту слабую волю законною и сильною. И если позволительно каждому глядѣть на божій міръ собственными глазами, то мы зададимся вопросомъ, что прежде всего бросается въ глаза, если повнимательнѣе разсмотрѣть «Гамлета», исключая, конечно, внутреннія красоты или внѣшніе недостатки трагедіи?
Это не стремленіе героя къ мести, a тотъ горячій протестъ противъ среды, противъ окружающихъ, противъ самого себя, наконецъ, — дѣтища этой среды,— который выливается въ отповѣдяхъ и монологахъ Гамлета. A онъ можетъ быть способенъ на это — «высоконравственное существо, истинный принцъ, способный править государствомъ такъ, чтобы не было препятствій доброму гражданину оставаться добрымъ» — (Гёте) и — еще добавимъ отъ себя — такъ, чтобы препятствовать злому дѣлать зло. Вотъ почему трагедія не привлекаетъ насъ съ точки зрѣнія борьбы Гамлета только съ собою, внѣ его боевого
[стр. 434]
отношенія къ окружающему обществу. Поэтому анализъ Гамлета можетъ интересовать только какъ средство къ анализу окружающей героя среды — и это тѣмъ болѣе, что настроеніе творчества Шекспира проникнуто дѣятельнымъ началомъ, здравымъ понятіемъ жизни, элементомъ борьбы, a не безсилія и хилости. По Аристотелю, «трагедія невозможна безъ дѣйствія, a безъ характеровъ она еще возможна». Но Гамлетъ удовлетворяетъ и тому и другому условію Аристотеля. Если борьба героя съ самимъ собою и съ окружающими составляетъ внѣшнее дѣйствіе трагедіи, то смыслъ этой борьбы объясняется исключительно свойствами характера Гамлета. A такъ какъ Гамлетъ въ борьбѣ руководится всецѣло указаніями совѣсти, и только одной совѣсти, то это ставитъ его на исключительную высоту, какъ идеально добросовѣстнаго дѣятеля, какъ типъ, почти идеалъ истинно-человѣческаго борца за истину и справедливость.
III.
...Итакъ, шпаги сверкаютъ. Литавры вторятъ пушкамъ,—
Король за здравіе Гамлета пьетъ
И въ кубокъ перлъ бросаетъ многоцѣнный.
Можно подумать, что при такой праздничной обстановкѣ совершается дѣло величайшей красоты, величайшаго милосердія... Да, вѣдь, оно такъ на самомъ дѣлѣ и есть, стоитъ только вспомнить смерть Гамлета. Уже получившій смертельную рану, подавленный послѣднимъ неожиданнымъ открытіемъ, онъ еще находитъ въ себѣ достаточно нравственной силы, чтобы въ трогательныхъ выраженіяхъ простить предательство Лаэрта... Съ какою радостью хватается король за остатокъ угасающей жизни:
— «Друзья, спасите! Я лишь только раненъ»,— умоляетъ онъ, вызывая смятеніе въ толпѣ придворной челяди. Нѣкоторые бросаются къ нему на помощь, другіе — обезоруживаютъ Гамлета; женщины сбиваются въ кучу, многія изъ нихъ въ страхѣ убѣгаютъ.
Такъ ли принимаетъ свой жребій Гамлетъ? Онъ преклоняется предъ смертью, какъ истинный философъ, желая видѣть во всемъ нѣчто законченное:
Гораціо, я умираю,
Могучій ядъ ужъ побѣдилъ мой духъ...
Даже передъ смертью слышится что то вродѣ отголоска чуткой совѣсти Гамлета, все же страдающаго отъ самосуда надъ Розенкранцемъ и Гильденстерномъ:
Вѣстей изъ Англіи я не услышу.
Гамлетъ какъ бы проситъ прощенія y тѣней казненныхъ по его винѣ Розенкранца и Гильденстерна, косвенно указывая, что онъ самъ искупаетъ свою вину смертью.— «Ты имъ разскажешь все»,— намекаетъ онъ и на народъ, которому слѣдуетъ объяснить истинную причину убійства Клавдія. Гамлетъ не тѣшится самообманомъ и только старается какъ бы плодотворнѣе была даже его кончина. Умирая онъ заботится о передачѣ престола достойному преемнику, но передавая
[стр. 435]
вѣнецъ Фортинбрасу, уроженцу суровой Норвегіи, онъ этимъ самымъ утверждаетъ смертный приговоръ надъ самобытностью разрушающейся Даніи.
... Здравствуй, племя младое, незнакомое!
Болѣе мужественное новое поколѣніе смѣняетъ поколѣніе умирающее; болѣе живучая культура смѣняетъ культуру, истощившую непосредственность силъ рефлексіею. Представители этихъ протжвоположныхъ эпохъ — Фортинбрасъ и Гамлетъ. Идеалисты, подобные Гамлету, служатъ духовными звеньями между двумя эпохами. Принадлежа всецѣло наступающей эпохѣ, они тѣмъ не менѣе гибнутъ искупительными жертвами эпохи прошедшей, создавшей и воспитавшей ихъ. Иначе, какой смыслъ въ смерти Гамлета? Онъ только что совершилъ дѣло давно ожидаемаго возмездія; онъ порѣшилъ съ своими сомнѣніями, возстановивъ свой идеалъ добра и чести. Тутъ ему только бы и жить,—
Онъ все величіе царя явилъ бы,
Когда бъ остался живъ.
Гамлетъ самъ говоритъ:
О, еслибъ время я имѣлъ,
Я разсказалъ бы вамъ...
Но все значеніе такого борца въ томъ именно и заключается, чтобы пасть въ борьбѣ. Этотъ законъ жизненнаго прогресса съ неумолимой логикой примѣняется особенно къ смѣльчакамъ, пытающимся противостать цѣлому обществу.
Даже такихъ филистеровъ, какъ Гораціо, трогаетъ участь Гамлета. Гораціо воодушевляется до того, что самъ жаждетъ сострадать ему... Онъ хочетъ отпить отъ отравленнаго сомнѣніями кубка Гамлета,— изъ «кубка пѣнящагося отвѣдать вѣчножизненной браги, свой скудный сосудъ согрѣть на мгновеніе творческою силою, все созидающею собою изъ себя». Но Гамлетъ не признаетъ за нимъ права на это. Кто, какъ не этотъ кабинетный труженикъ, повѣдаетъ міру о дѣлахъ Гамлета? Роль Гораціо, какъ друга Гамлета, ясно опредѣлена. Онъ служитъ регуляторомъ уму Гамлета, какъ Лаэртъ —показателемъ его добросовѣстности. Гамлетъ прибѣгаетъ къ другу всякій разъ, лишь только нужна повѣрка мысли по фактическому матеріалу, разложенному по отдѣленіямъ мозга Гораціо. Въ одномъ только принцъ не совѣтуется съ Грраціо — это въ убійствѣ короля, совершонномъ по внутреннему убѣжденію совѣсти. He хладнокровнаго нападенія изъ-за угла на молящагося и кающагося грѣшника ждала его совѣсть. Какое страшное и вмѣстѣ прекрасное зрѣлище представляетъ мститель, когда тутъ же, покончивъ счеты съ противникомъ и даже съ собственною жизнью, онъ бросается на короля, еще возбужденный поединкомъ, съ горящими глазами и прерывистымъ дыханіемъ!.. Дорогою цѣною оплачивается это короткое торжество. Входящій Фортинбрасъ застаетъ только тѣло Гамлета, распростертое y ногъ королевы.
Гамлетъ не изъ числа людей, забывающихъ свои сыновнія обязанности изъ увлеченія чувствомъ общественнаго долга. Наоборотъ, послѣднее обусловлено y него горячею любовью къ отцу и скорбью о матери. Гамлетъ падаетъ въ борьбѣ, но его пораженіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ торжество не только великодушнаго сердца, но и торжество сыновней любви къ родителямъ.
[стр. 436]
Bсe миновало: слава, любовь, философія,— осталось одно только чувство къ матери, давшей когда-то ему жизнь и теперь косвеннымъ образомъ отнимающей ее. Давно ли Гамлетъ, предчувствуя недоброе, порывался уѣхать въ Виттенбергъ и остался только по просьбѣ матери! Гамлетъ все забылъ и простилъ ей. Она все-таки ему мать, и въ душѣ еще живы незлобиво-младенческія чувства. Дѣтскія грезы всплыли наружу изъ-за суровыхъ дѣяній погибшаго бойца; лампада затеплилась въ душѣ умирающаго — и на мгновеніе озарила идеальный образъ матери — такой, какимъ онъ долженъ жить въ сердцѣ каждаго по дѣтскимъ воспоминаніямъ. Смертельно-раненый принцъ съ трудомъ подползаетъ къ тѣлу матери и, взглянувъ на нее въ послѣдній разъ, падаетъ мертвымъ y ея ногъ.
. . . . . .Спи мирно
Подъ свѣтлыхъ ангеловъ небесный хоръ!
Громъ барабановъ ближе...
Наступила весна. Появились ранніе цвѣты Даніи, зазеленѣли долины, a жизнь полная расцвѣтшихъ силъ уже окончилась. Идеальные завѣты принца сходятъ со сцены подъ «свѣтлыхъ ангеловъ небесный хоръ», а новыя идеи овладѣваютъ полемъ жизненной битвы подъ звуки барабанной трескотни.
Подачею голоса въ пользу приближающагося Фортинбраса Гамлетъ какъ бы бросаетъ въ глаза обществу укоръ въ томъ, что оно не стоитъ такого руководителя, какъ Гамлетъ. По судьбѣ своей боецъ, онъ и умираетъ, какъ боецъ, въ свой смертный часъ подставляя обществу зеркало, которое не разъ подносилъ ему при жизни: страною будетъ править Фортинбрасъ — дѣятель въ мѣру разсуждающій, въ мѣру дѣйствующій; его подданными будутъ аккуратные Гораціо, безвредные философы-обыватели, которымъ безопасно и пріятно жить на бѣломъ свѣтѣ. Будущее Шекспиръ отдаетъ имъ.
Въ словахъ Гораціо надъ тѣломъ Гамлета —
Какой свѣтильникъ разума угасъ!
Какое сердце биться перестало! —
сопоставляющихъ «разумъ» и «сердце»,— вся краткая и вмѣстѣ съ тѣмъ полная характеристика Гамлета. И если въ передѣлкѣ Дюма и Мерисъ «Гамлетъ» заканчивается появленіемъ Духа-отца въ ту именно минуту, когда Гамлетъ закалываетъ короля, то можетъ быть въ самомъ дѣлѣ таково наицѣльнѣйшее заключеніе трагедіи,— этой исторіи смятеннаго Духа человѣческаго, представителемъ котораго на землѣ неоднократно будетъ его дѣтище Гамлетъ.
С. Махаловъ.
|